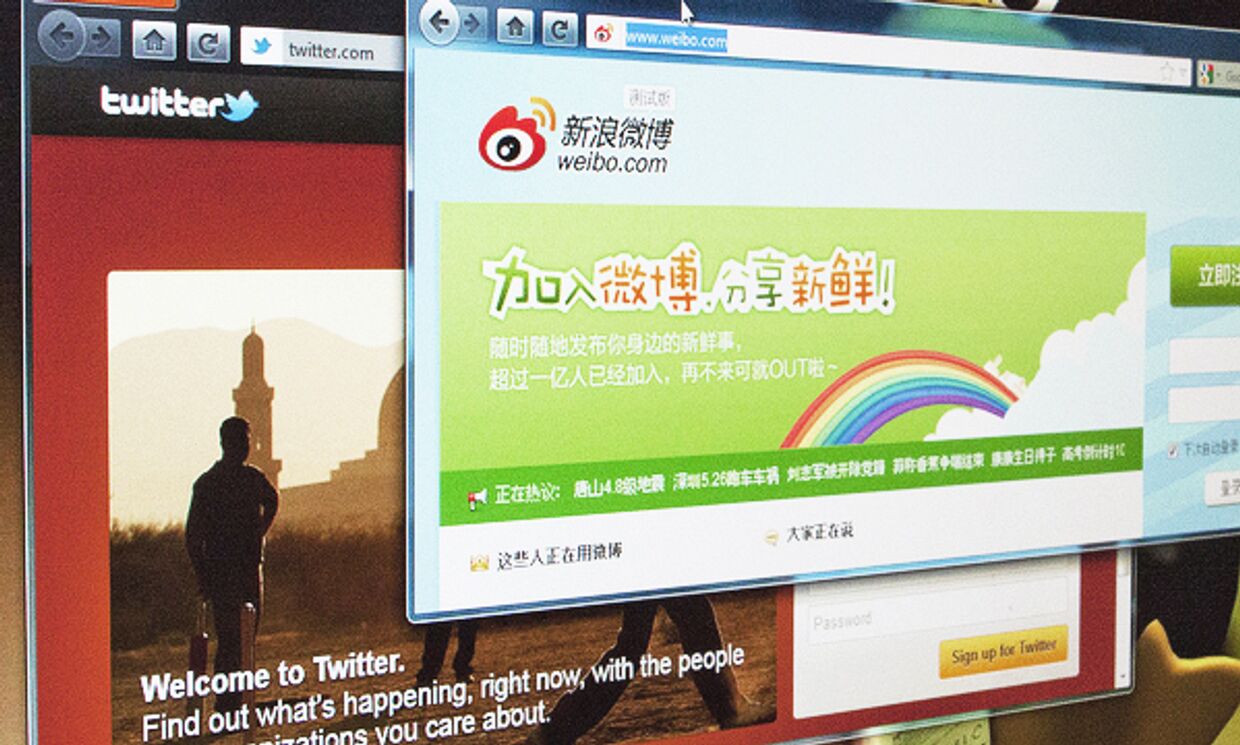Я получила журналистское образование в Калифорнии и проходила стажировку в четырех американских ежедневных газетах. На двух семинарах я посмотрела фильм «Афера Стивена Гласса» (Shattered Glass), историю журналиста из журнала New Republic и автора тщательно продуманных фабрикаций. После каждого просмотра проходила дискуссия по поводу этических проблем. Одним из преподавателей был бывший главный политический обозреватель газеты New York Times, другим — лауреат Пулитцеровской премии в области журналистских расследований. Я получила весьма основательную подготовку по своей профессии.
И, тем не менее, спустя три года после получения диплома я продалась китайскому правительству. Дешево. Я осознала, что чернила на чеке, удостоверяющем продажу, уже высохли лишь после того, как получила свой утешительный приз: бесплатную 10-дневную поездку в северо-западную часть этой страны — в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Пусть слово «автономный» не вводит вас в заблуждение, поскольку ничего подобного там просто нет. На самом деле фраза «10-дневная поездка» также представляет собой некоторое искажение, поскольку в действительности это больше напоминало стремительное и принудительное ознакомление с достижениями Китая на его дальнем западе. Моя поездка была организована агентством China Intercontinental Press, которое является составной частью Информационного отдела Государственного совета Китая. В дальнейшем я буду называть его представителей «моими цензорами».
Я работала в одном ежемесячном журнале в Шанхае, который на жаргоне местного интернационального сообщества называют «экспатовским листком» (expat rag). Мой работодатель был частным бизнесменом, однако лицензия на издание была получена им от китайского правительства. Как было заведено во всех других местных изданиях, все то, что мы писали, перед отправкой в печать проходило проверку. Поскольку мы работали в Шанхае, а наши цензоры сидели в Пекине, то это означало, что каждый месяц мы направляли им целиком наш очередной номер — от обложки до обложки. После этого чиновники в Пекине сокращали и редактировали наши тексты, а затем направляли все материалы назад заместителю главного редактора. Обращаясь лично к кому-нибудь из этих цензоров, она почтительно говорила «учитель такой-то», поскольку все они, судя по всему, были очень хорошо образованы в области западной культуры.
Были вещи, о которых мы, по понятным причинам, не могли писать: Тайвань, Тибет, Тяньаньмэнь. Другие рекомендации были более тонкими по своему характеру. Всегда надо было писать «китайская материковая территория», а не «материковый Китай». Мы не имели возможности использовать слово «гей» в списке баров для геев, однако один из наших конкурентов вел постоянную колонку о ЛГБТ (разные цензоры, разные правила). Подобная непоследовательность работает на пользу системы в целом. Отсутствие четких правил заставляет активнее работать самоцензуру. Наши цензоры также периодически демонстрировали паранойю: однажды нам нужно было отредактировать врезку с фактами, в которой было сказано: «64 китайца вошли в список миллиардеров журнала Forbes», поскольку цензоры предположили, что цифры 6 и 4 являются скрытой ссылкой на 4 июня, то есть на годовщину вооруженного подавления продемократических демонстраций в 1989 году — самая запретная из всех запретных тем.
Несмотря на подобные вещи, я серьезно относилась к своей работе. Я писала о разрыве в уровне доходов у городских жителей, а также о семейных разногласиях, вызванных последствиями политики эпохи Мао. Я испытывала беспокойство, когда наши материалы направлялись в Пекин, но у меня не возникало никаких серьезных проблем, пока я не согласилась поехать в Синьцзян. Кто-то все равно должен быть туда поехать: наш издатель заключил своего рода межправительственное соглашение по поводу освещения определенных тем, содержание которого мне никто полностью не объяснил, однако я исходила из того, что в любом случае смогу набросать 800 слов на тему поездки.
Мы приземлились в аэропорте Урумчи. В далеком прошлом этот город был центром для торговцев, шедших по Великому Шелковому пути, однако сегодня он застроен одинаковыми многоэтажными домами и мало чем отличается от других китайских городов, если не считать нескольких куполов мечетей, разбросанных среди монотонных бетонных зданий. Урумчи является также одним из городов, где особенно заметна сегрегация. Уйгуры, большинство из которых мусульмане, говорящие на тюркском языке, являются самой большой по численности этнической группой в Синьцзяне. В течение 2500 лет в Синьцзяне поочередно оказывался в руках китайских, тюркских и монгольских империй, а в течение напряженного периода (1944-1949 годы), перед тем как миллионы этнических китайцев были направлены туда режимом Мао для укрепления региона, часть его являлась поддерживаемым Советами государством, вторым Восточным Туркестаном.
Сегодня Синьцзян имеет мощную систему безопасности, необходимую, по мнению представителей правительства, для противодействия беспорядкам и террористическим актам. Местные уйгуры в культурном отношении ограничены в правах, и они меньше зарабатывают в частном секторе, чем этнические китайцы, хотя их родная земля богата нефтью, природным газом и полезными ископаемыми. Синьцзян обычно попадает на первые полосы газет только в том случае, если происходят какие-то акты насилия, как это было в случае массовой резни в марте в Куньмине, в южной части Китая, в которой обвинили уйгурских сепаратистов.
Первым пунктом программы в Урумчи была пресс-конференция по вопросам провинциальной экономики. Всего нас было около двух десятков журналистов — все китайцы, за исключением меня и еще пары японских редакторов из другого издания для экспатов. Всех нас разместили на стульях в большом зале отеля, после чего мордатый сотрудник по связи с общественностью зачитал нам слово в слово 12-страничный пресс-релиз. В конце ведущий попросил задавать вопросы. Никто руку не поднял.
На следующий день мы полетели в Или-Казахский автономный округ, граничащий с Казахстаном. Я спросила сопровождавшего нас молодого сотрудника по работе с прессой, есть ли у него друзья среди уйгуров, и если есть, то может ли он говорить с ними о произошедших в 2009 году беспорядках. Речь идет о кровавых событиях в новейшей истории этой провинции, когда 197 человек были убиты и более 1500 арестованы. Он сказал мне, что уйгуры — это как чернокожие в Соединенных Штатах. По его словам, у них постоянно повышается уровень образования и социальный статус. Проблемы создают те люди, у которых нет такого рода возможностей, добавил он.
По большей части эта поездка была откровенным пропагандистским мероприятием — длинным, скучным и совершенно лишенным убедительных нюансов. Мы потратили целый день на то, чтобы сначала осмотреть дрожжевую фабрику, а затем предприятие по высушиванию капусты и торговый центр по оптовой продаже оборудования для ванных комнат — вся поездка происходила в жестяной трубе на колесах, хранившей затхлые следы нашего коллективного утреннего дыхания.
Сам Синьцзян прекрасен. Я провела много времени с камерой в руках, прильнув к окну автобуса и пытаясь запечатлеть ледники, горы и покрытые густой травой долины с пятнами юрт, установленных кочевниками. Хотя уйгуров здесь большинство, сам Синьцзян является средоточием многих культур. Однако все те люди, с которыми мы встречались, были этническими китайцами — с одним лишь исключением: один сотрудник по работе с прессой оказался казахом. Во многих местах — на финиковой ферме, на фирме по строительству дешевого жилья — нам везде представляли уйгуров и казахов для подтверждения линии партии: да, мы получаем пользу от реализации этих программ.
Больше всего мы наблюдали за местными жителями во время танцевальных представлений. Исполняемые подростками танцы сопровождали почти каждый обед. Почти всегда они были в особых костюмах, а иногда их выступление сопровождалось мощной басовой линией в стиле техно, а также активной работой дымовых машин. Каждый вечер все участники группы позволяли себе выпить немного спиртного, а затем расходились по своим номерам.
Вернувшись в Шанхай, я решила откровенно рассказать об этой поездке, полагая при этом, что мои цензоры не будут возражать. Их собственное правительство разработало ее маршрут: но, тем не менее, в ходе посещения этого региона нельзя было не заметить признаки социального расслоения в регионе, а также этническую напряженность. В чем меня вообще можно обвинить, если я лишь рассказываю о том, что мне показала сама китайская пропаганда?
Теоретически я могла бы тайком протащить в печать какие-нибудь провокационные вещи. Прежде чем все материалы номера направляются в печать, я могла бы попросить одного из наших сотрудников, занимающихся версткой полос, немного изменить текст. Я знала, что сами они не читают статьи во время работы. Но в таком случае я бы потеряла работу, а моему боссу это могло бы стоить издательской лицензии. Многие люди могли бы лишиться своей работы. Я тогда решила, что ничего из того, что я могла бы написать, не оправдывает подобные жертвы со стороны людей. Так что система работает.
На самом деле Китай иногда бросает журналистов в тюрьму, и поэтому подсчета затрат, связанных с игнорированием требований цензоров, хватает для того, чтобы держать большинство людей под контролем. Какой бы непрозрачной не была цензура, подсчитать цену непослушания не составляет никакого труда.
Журналисты любят возмущаться по поводу цензуры, но они в меньшей степени готовы обсуждать вопрос о том, что значит на самом деле работать под ее контролем. Когда они это делают, то чаще всего говорится о стыде, об одиночестве и о психологическом ущербе. Когда ты работаешь как журналист, то обидно осознавать, что твоя работа служит поддержанию репрессивного статус-кво, а не делу просвещения. Греческий профессор права Джордж Мангакис (George Mangakis), оказавшийся в тюрьме в 1969 году за протест против правившей тогда в стране военной хунты, назвал цензуру «дьявольским устройством для уничтожения собственной души». В то же время можно вспомнить слова югославского писателя Данило Киша (Danilo Kis), говорившего о самоцензуре как о коварном и скрытом аналоге цензуры. Где бы она ни существовала, отметил он, возникает «опасное манипулирование сознанием с тяжелыми последствиями для литературы и для человеческого духа». Цена для отдельного человека велика, и хотя полное ее воздействие на публику сложно оценить, можно быть уверенным в том, что оно не ограничится местными средствами массовой информации или, как это было в моем случае, границами китайского государства.
«Мое решение относительно того, чтобы не писать эту статью — по крайней мере пока — доказывает, что я являюсь соучастником игры по контролю, которую ведет Китай. В конце концов, есть же множество других тем, про которые можно писать, верно?» Так в статье, посвященной колебаниям при освещении определенных материалов и опубликованной в ноябре прошлого года в онлайновом журнале ChinaFile, написала Дорина Эллиотт (Dorina Elliott), редактор международного отдела журнала Conde Nasté Treveler. Три работавших в Китае журналиста покинули компанию Bloomberg осенью прошлого года после того, как на ее сайте отказались публиковать серьезный материал о коррупции. В декабре прошлого года Эмили Паркер (Emily Parker) написала статью для журнала New Republic, составленную из интервью с иностранными журналистами — некоторые были названы по имени, некоторые нет, — посвященную постоянному беспокойству этих людей по поводу того, что китайцы могут закрыть им визу. Прецеденты уже есть. По крайней мере двум западным журналистам, если считать с 2012 года, было отказано в получении визы для работы в Китае.
В течение десятилетий политические теоретики верили в то, что авторитарные режимы по своей сути являются переходными и в конечном итоге разрушаются из-за недостатка легитимности. Однако в последние десять лет все больший вес набирает идея об устойчивости авторитарных режимов. Китайская правящая партия внимательно изучила ошибки других посткоммунистических государств, а затем адаптировала соответствующим образом свои процессы и институты.
Вопрос о долгосрочной устойчивости авторитарных режимов все еще остается спорным. Однако в течение десятилетий, прошедших с демократических восстаний 1989 года, Китаю удавалось удерживать контроль над ситуацией, более того, он превратился во вторую по размеру экономику в мире. В настоящее время в стране полно иностранных журналистов, которые не хотят лишиться своих виз и которым их работодатели зажимают рот, а также представителей международных технических компаний, которые подчиняются цензуре для того, чтобы иметь возможность добиться успеха на китайском рынке. Американские кинематографисты часто вносят изменения в фильмы, которые даже не покажут в китайских кинотеатрах — так, например, редактировали «Войну миров Z» (World War Z ) или ремейк фильма «Красный восход» (Red Dawn), — и делается это для того, чтобы никого не обидеть и сохранить показатели кассовых сборов. Многих иностранцев затащили на орбиту недемократических режимов, и сойти с нее в ближайшее время будет не так-то легко.
Я написала то, что, как я думала, не должно было вызвать проблем с цензурой. Я написала статью о бизнесмене из восточной (более богатой) провинции Цзянсу, который закружил меня в танце вместе с уйгурскими танцорами и сказал мне: «Синьцзян доволен, но провинция Цзянсу довольна еще больше!» Я подробно рассказала об одной нашей остановке на оптовом рынке, где сидела женщина в камуфляже за столом, заваленном дубинками и полицейскими щитами (приближалась годовщина беспорядков 2009 года, и все это выглядело, как неубедительное доказательство укрепления мер безопасности). И я также упомянула тот факт, что была участницей организованной правительством поездки, целью которой была поддержка промышленного развития.
Наши цензоры пришли в ужас. Отосланные нами материалы вернулись с огромным количеством выделенных желтым цветом частей текста. Никого из моих коллег это не удивило, но я была сильно расстроена. Я переписала статью и отправила им черновик по электронной почте. Но этого оказалось недостаточно. «Какого черта им еще от меня надо?» — с такими словами я обратилась к несчастному заместителю главного редактора, отвечавшей за подобного рода контакты. Я хорошо помню ее выражение лица. Мои эмоции вызывали у нее неприятные ощущения.
Так что же делает работу журналиста в условиях цензуры столь огорчительной? В сборнике своих статей под названием «Пусть обижаются» (Giving Offense), посвященных цензуре, Джон Кутзее (J M Goetzee) обращается к идеям Фрейда относительно творческого процесса: творческая работы, по его мнению, призывает нас укрощать разнообразные по своему характеру внутренние порывы для создания чего-то нового. В этом смысле творчество является глубоко личным процессом. Кутзее продолжает: «Написание статей в условиях цензуры можно сравнить с близкими отношениями с человеком, который вас не любит, с которым вы не хотите иметь никакой близости, но который навязывает вам себя».
Теперь мне кажется глупой идея о том, что моя статья могла бы быть опубликованной в том виде, как мне хотелось. Любой журналист, достаточно долго проработавший в условиях китайской цензуры, знает о том, что существует скрытый договор. Вы не признаете, что на ваше восприятие было оказано давление, и вы не сообщаете о той правде, которая просочилась сквозь сито работающей пиар-машины. Цензура не просто контролирует конечный список того, о чем нельзя упоминать. Ее смысл состоит в том, чтобы контролировать идеи.
Трудно сказать, каким может быть кумулятивный эффект влияния Китая на иностранные средства массовой информации. Сегодняшняя медийная среда похожа на работу специалиста в программе Photoshop: возможно, все содержание и сохранено на фотографии, однако острые углы смягчены, освещение скорректировано, и кто может сказать, каким образом эти искажения повлияют на наше восприятие?
Но каким бы ни было воздействие цензуры, выполнение ее условий не является нейтральной позицией. Это соучастие, а также молчаливое согласие с тем, что у вас нет проблем с небольшим ограничением свободы и с некоторым сокращением количества идей. Орхан Памук (Orhan Pamuk), осужденный в 2005 году по обвинению в «оскорблении турецкости» написал в сборнике «Сожги эту книгу» (Burn This Book), подготовленной Тони Моррисоном (Toni Morrison) антологии для международной организации ПЕН-клуб, о том, что «изменение своих слов и изменение их таким образом, чтобы они были приняты всеми в репрессированной культуре, подобно провозу запрещенных грузов через таможню... это постыдный и унизительный процесс». В своей книге «Переступи эту черту» (Step Across This Line) Салман Рушди прибегает к похожей метафоре: «Хорошая писательская и журналистская работа предполагает наличие нации без всяких границ. Те писатели и журналисты, которые способствуют созданию границ, превращаются в пограничников». Ты либо представляешь неискаженную правду, либо твои статьи превращаются в цемент, укрепляющий стены, которые мешают проведению дискуссии. Оба этих писателя, конечно, выбрали вариант с изложением правды, какими бы суровыми ни были возможные последствия подобного шага.
Люди когда-то полагали, что интернет превратится в одностороннюю силу демократизации. Они думали, что освобожденные им слова и мысли преодолеют любые границы, однако пока что такие страны, как Китай, весьма неплохо справляются с его контролем. Обманчиво представление о том, что свободная торговля неизбежно приведет к политическим реформам, поскольку на самом деле экономическая мощь Китая позволила ему распространить свою цензуру за пределы национальных границ. Вместе с тем не следует ожидать героических поступков от некоммерческих организаций, и мне сложно обвинять в осторожности тех людей, которые устраивают свою жизнь в Китае, в том числе иностранных журналистов. Но мы должны отдавать себе отчет в том, какой именно мир мы строим. По крайней мере, нам следует лучше осознавать то, что мы делаем — и где мы идем на компромисс, — а еще мы не можем рассчитывать на то, что разного рода беспорядочные блоги и микроблоги будут способны полностью исправить ситуацию, в то время как профессиональные журналисты и их организации постоянно уходят от ответа.
пароля
пароля
правил комментирования материалов
Факт регистрации пользователя на сайтах РИА Новости обозначает его согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на русском языке.
Комментарии пользователей размещаются без предварительного редактирования.
Комментарий пользователя может быть подвергнут редактированию или заблокирован в процессе размещения, если он:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, ущемляет права меньшинств, нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
- призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации
- порочит честь и достоинство других лиц или подрывает их деловую репутацию;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
- имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные;
- является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
- автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений («флуд»);
- смысл текста трудно или невозможно уловить;
- текст написан по-русски с использованием латиницы;
- текст целиком или преимущественно набран заглавными буквами;
- текст не разбит на предложения.
В случае трехкратного нарушения правил комментирования пользователи будут переводиться в группу предварительного редактирования сроком на одну неделю.
При многократном нарушении правил комментирования возможность пользователя оставлять комментарии может быть заблокирована.
Пожалуйста, пишите грамотно – комментарии, в которых проявляется неуважение к русскому языку, намеренное пренебрежение его правилами и нормами, могут блокироваться вне зависимости от содержания.